- Главная
- Новости
- Интересное о Библии
- Этические императивы в историцистской перспективе: был ли Иисус Навин аморальным?
Этические императивы в историцистской перспективе: был ли Иисус Навин аморальным?
Постановка проблемы
Иисус Навин, если верить Библии, приказал истребить все население Иерихона за исключением семьи блудницы, не выдавшей его лазутчикам[1]. С точки зрения современных норм морали, пронизанных общим гуманизмом, этот поступок выглядит неоправданно жестоким. Для такого вывода есть как минимум два стандартных (чаще всего приходящих на ум современному человеку) основания: 1) массовое убийство мирных граждан есть зло само по себе и 2) в ситуации, в которой действовал Иисус Навин, не было ничего, что могло бы хоть как-то морально оправдать данное действие (эти люди не были ни в чем виноваты, они не представляли больше угрозы, в лишении их жизни не было никакой военной или иной необходимости). Но в самом тексте Библии данный поступок не осуждается: Господь не отдает прямого приказа истребить всех[2], однако Он остается с Иисусом и не возражает против содеянного им[3]. Это порождает ощущение диссонанса: ведь многие люди воспринимают текст Священного Писания в том числе как источник моральных ориентиров и даже императивов.Разумеется, всякий, кто читает в наши дни библейский текст и пытается примирить его содержание с современными представлениями о добре и зле, скорее всего замечает, как непросто это сделать, особенно в отношении Ветхого Завета. История с истреблением мирного населения Иерихона в рамках завоевания Израилем Земли обетованной — яркий тому пример[4]. Если рассматривать Библию как текст, написанный людьми в определенную историческую эпоху, то легко прийти к выводу, что библейская мораль могла просто в чем-то устареть, учитывая, как сильно изменилось человеческое общество за тысячи лет[5]. Но для христианина такой подход вряд ли приемлем, а если и приемлем, то нужен критерий разграничения между теми нормами библейской морали, которые устарели, и теми, которыми можно продолжать руководствоваться[6]. Разумеется, можно также не воспринимать данную историю как точное описание имевших место событий и, соответственно, предполагать, что здесь имеет место преувеличение, аллегория или что-то подобное. Но независимо от того, считаем мы историю уничтожения Иерихона, описанную в Библии, точным описанием того, что было на самом деле, или нет, она представляет ситуацию тотального уничтожения жителей города как морально приемлемую и отвечающую идее служения Богу, т. е. содержит вполне определенный моральный посыл, вызывающий у современного читателя серьезные вопросы.
Принять предлагаемую этическую оценку описываемых событий (независимо от того, имели они на самом деле место и были ли в точности такими, как описано) для современного человека (для многих, по крайней мере) — значит внести разлад в свое понимание добра и зла, морально правильного и неприемлемого, а не принять — значит в некоторой степени усомниться в значении Библии для христианина. Можем ли мы судить людей и поступки, описанные в Библии, так, как если бы эти люди были нашими современниками, а поступки совершались в настоящем?[7] Или мы должны согласиться, что все, что описано в Библии как морально оправданное, морально оправдано просто потому, что это — часть Священной истории или имеет высшую легитимацию? Отчасти (если абстрагироваться от теологического аспекта проблемы) эти вопросы являются частью более широкой дискуссии о границах относительности моральных категорий и суждений и, шире, об эпистемическом статусе моральных императивов. Существует ли объективная шкала этических ценностей? Есть ли что-то аморальное в абсолютном смысле, или все эти оценки уместны только в каком-то определенном историческом контексте, а вне его подобные суждения вообще лишены истинностных значений? С другой стороны, коль скоро речь идет об исторически далеких от современности вещах, с обозначенным выше вопросом тесно связан и вопрос об объективности и непредвзятости истории. Насколько исторические нарративы определяются моральными позициями авторов и насколько мораль может быть определяющим фактором в изучении истории?[8]
С одной стороны, то, что об исторических событиях, личностях и т. п. часто говорят как о том, что имеет определенное моральное значение, и что моральные оценки инкорпорированы во множество моделей прошлого, особенно сформированных в рамках повседневного дискурса, — научный факт[9]. С другой стороны, нет единого мнения по вопросу о том, насколько история может и должна быть свободна от моральных оценок. Некоторые современные исследователи считают, что эта зависимость практически неустранима[10]. Но не означает ли это, что история не может быть объективна? Нам кажется, что такой вывод не обязательно должен следовать из признания значительной и даже существенной зависимости исторических нарративов от моральных презумпций, если есть основания признавать наличие такого факта. Далее мы рассмотрим на примере проблемы моральной вины или невинности Иисуса Навина, как это может быть[11].
Мораль в исторической перспективе
Правильно ли утверждать, что Иисус Навин поступил аморально или совершил зло, и если да, то на каких основаниях? Следует ли оценивать его поведение относительно стандартов его времени или корректно применять к нему стандарты сегодняшнего дня? Нам кажется плодотворным начать обсуждение этой проблемы с семантического вопроса: должно ли суждение, что Иисус Навин поступил аморально или совершил зло, пониматься так же точно, как и любое суждение формы «х поступил аморально» или «х совершил зло», примененное к современникам? С Иисусом Навином, конечно, дополнительная проблема состоит в том, что он является не только или даже не столько историческим персонажем, сколько субъектом Священной истории; и если принимается, что он действовал в соответствии с волей Бога, которая одновременно является конечным оправданием существования ныне действующих моральных императивов (для тех, естественно, для кого Библия — священный текст), то, если признать его действия аморальными, из этого можно будет сделать законный вывод, что можно быть аморальным, даже действуя по воле Бога, а значит, и соответствие поступка современным нормам морали не гарантирует, что он морально правильный. С другой стороны, если признать, что об Иисусе Навине неправильно сказать, что он поступил аморально или совершил зло, то непонятно, почему в современном мире подобные вещи подвергаются моральному осуждению: надо объяснить, что такого было в той ситуации, что принципиально отличает ее от всех обстоятельств, в которых кому-то может захотеться или показаться правильным убить множество невинных мирных людей.Иисус Навин, как и многие библейские персонажи, до сих пор воспринимается верующими людьми как образец для подражания; но при этом подразумевается, что подражать ему следует выборочно, а именно в преданности и служении Богу, но никак не в истреблении целых городов. Однако если Иисус Навин — образец, не ясно, почему мы (современные люди, воспитанные в определенном ключе) вправе решать, в чем ему следует, а в чем не следует подражать. Один аргумент, разумеется, состоит в указании на традицию, восходящую в конечном счете к чему-то божественному: можно сказать, что нормы и критерии, на которые мы ориентируемся сейчас, решая, чему подражать, а чему нет, в определенном смысле освящены соответствующей традицией. Ситуация Иисуса Навина при таком подходе рассматривается как особый случай, уникальный в своем роде, в силу чего в современном мире у него нет аналогов. Тогда можно вполне исходить из абсолютизирующей трактовки моральных категорий и считать, что «х поступил аморально», поскольку это суждение и ему подобные значат всегда одно и то же — «поступок х не отвечает системе моральных норм Е, определяющей объективное значение моральных категорий» (или что-то в этом роде). Но для непредвзятого наблюдателя, заинтересованного в формировании правильных суждений морали и универсальных оснований для таких суждений, такой аргумент не будет слишком убедительным, так как у него нет доказательства того, что а) ситуация Иисуса Навина уникальна и б) система норм Е определяет объективное содержание морали, позволяющее трактовать соответствующие нормы как универсальные, а термины — как абсолютные, — в силу связи с определенной традицией.
Сторонник естественного происхождения моральных норм, в свою очередь, может сказать, что мораль как естественный феномен не может быть универсальна, так как, возникнув в своих примитивных формах из некой эволюционной необходимости, она адаптируется к существенным изменениям в обществе, и этим обусловлена ее собственная изменчивость. Этот подход предполагает определенный дефляционизм в отношении морали, согласно которому за использованием этических категорий не стоит ничего принципиально нового по сравнению с общественной пользой или пользой для конкретной популяции людей[12]. Крайний релятивист — неважно, натуралистически настроенный или нет, — может признавать равнозначными противоречащие друг другу системы морали; этим он фактически допускает, что спор по поводу морали является спором о словах и может не иметь рационального решения. Но у людей есть практическая мотивация предпочитать те подходы, которые допускают существование подобных решений. В этом смысле крайний релятивизм явно не лучшая этическая концепция, так как легко делает мораль игрушкой в руках демагогов, политиков и средств массовой информации.
Но, с другой стороны, понятно, что, когда сталкиваются две непримиримых системы морали, судить о качестве одной из них с точки зрения другой значит судить предвзято и, соответственно, в определенном смысле аморально (во всяком случае, несправедливо). В чем релятивист прав, так это в том, что невозможно решить моральный спор, используя критерии какой-либо из сторон этого спора без осознанного и добровольного согласия другой. При этом релятивист также может настаивать на том, что у нас нет этически независимых критериев, которые можно было бы использовать для нахождения подобных решений. Однако в этой части, нам кажется, релятивисты правы лишь до некоторой степени. Практика показывает, что даже люди с серьезными этическими разногласиями могут быть согласны по некоторым вопросам, в том числе и морали. Так, например, и деонтолог, и утилитарист могут согласиться, что воровать у другого его законно приобретенную собственность аморально, и, соответственно, вместе осудить какое-то действие, норму поведения или какого-то человека. Но если спор затрагивает саму суть морального разногласия между спорящими — например, от утилитариста и деонтолога потребовали объяснить, почему то, что они вместе осудили, морально неправильно, — его обычно бывает труднее преодолеть посредством дальнейших аргументов, чем спор по каким-то более практическим вопросам. Оценивая нечто c одной позиции как вредное, а с другой как полезное, например, спорящие вполне могут обнаружить, что оба они правы или что один из них больше прав, чем другой, потому что понятия вредности и полезности, которые чаще всего используются, относительные: они предполагают, что полезное в одном отношении или для кого-то может быть вредным в другом или для кого-то другого, т. е. одно не исключает полностью другое. То же самое относится и к множеству других понятий, с помощью которых люди фиксируют свои разногласия.
Ситуация, однако, меняется, если такое понятие имеет моральную импликацию. Если субъект осуждает х как противоестественное, например, но имеет в виду при этом не просто аномальность х, а его несоответствие должному (некоему правильному порядку вещей), то, скажем, аргумент, демонстрирующий естественность аномалий такого рода, его вряд ли переубедит, так как для него проблема х не в аномальности, а в несоответствии должному. Самый обычный спор может обнаружить свою этическую подоплеку, если обнаруживается, что какой-то аргумент в нем имеет решающее значение (как минимум для одной стороны), но его сила зависит от его связи с какой-то моральной ценностью. При таком повороте спор становится значительно труднее разрешить, используя рациональные аргументы. Даже классический аргумент от меньшего зла далеко не всегда работает. Утилитарист мог бы заметить, например, что нарушение моральной нормы x, которую деонтолог считает императивом, а он сам — лишь более полезной, чем ее альтернативы, — все же является меньшим злом, чем допущение предполагаемых ужасных последствий соблюдения x в очень специфической ситуации С (в оценке которых они оба согласны). Но для деонтолога то обстоятельство, что х является меньшим злом по сравнению с альтернативами, скорее всего, не будет основанием признавать х чем-то морально правильным, даже если он примет соответствующий аргумент.
Так и судья, видя, что у обвиняемого есть моральное оправдание, может согласиться, что степень его вины (притом что он считает доказанным, что он совершил то, что ему вменяют) меньше, чем она была бы без этого оправдания; но чтобы сделать такого человека полностью невиновным, моральное оправдание должно быть очень сильным (необходимость выполнить моральный долг, например). Да и в этих случаях освобождение от наказания или осуждения не обязательно означает устранение моральной вины. Чем конкретно порождается моральная вина (самим фактом совершения соответствующего действия, отсутствием для него достаточного оправдания, неправильной мотивацией, наличием последствий определенного рода или чем-то другим)[13] — один из важнейших вопросов философии морали; но здесь, нам кажется, достаточно будет заметить, что если за каким-то конкретным разногласием обнаружилось реальное моральное противоречие, то даже практическое устранение первого (путем арбитража, например) вряд ли устранит последнее (если только кто-то не поменяет свои взгляды на мир). Тем не менее, хотя люди обычно не готовы пересматривать то, что они считают своими базовыми ценностями, они не обязательно тотально глухи к рациональной аргументации, которая могла бы посеять семена сомнения: если спорящие в принципе готовы слушать друг друга, они могут сравнить моральные аргументы каждого на предмет удовлетворения тем параметрам, которые они оба признают влияющими на качество аргументации. Например, показать логическую слабость предлагаемого аргумента или его нерелевантность (что он на самом деле не противоречит тому, что утверждает оппонент).
Но такой способ решения проблемы доступен только тем, между кем возможен реальный диалог. Иисуса Навина между тем невозможно в буквальном смысле сделать нашим современником и вступить с ним в спор. А если бы даже мы могли с ним поспорить на моральные темы, не понятно, насколько вправе были бы мы использовать против него аргументы, отсылающие к нашей системе этических координат, базирующейся также во многом на определенном прочтении Библии. Ведь ментально и концептуально он все равно оставался бы человеком своего времени. Мы могли бы заметить, что в системе координат, в которой действует Иисус Навин, все, что отвечает воле Бога, есть благо, и Бог заповедал землю Ханаанскую народу Израиля и предал Иерихон и всех жителей его в руки Иисуса, а долгом Иисуса было следовать этой воле. Следовательно, он не может быть нами непредвзято обвинен в том, что он морально неправ, стараясь во имя того, что он считает высшим благом, завладеть Ханааном. Но это все же не значит, что любой метод завладения этой землей должен быть для него одинаково приемлем. В данном конкретном случае Бог не приказывал убить всех поголовно. Более того, есть прямое указание «Не убивай» (Исх 20. 13, Втор 5. 17). Там не сказано: «Не убивай евреев», хотя кто-то может читать эту заповедь именно так. Стало быть, этический кодекс, который можно вменить Иисусу Навину, должен бы включать пункт: не убивай, если этого не требует Бог или иначе нельзя выполнить Его волю. В более общем виде это можно сформулировать как «Не убивай без необходимости (или крайней необходимости)». Уничтожая мирное население Иерихона, Иисус Навин нарушает эту заповедь: ведь город уже завоеван, и, следовательно, исполнение воли Бога этих убийств не требует. На это заблуждение ему можно было бы указать, и он мог бы, наверное, увидеть, что аргумент имеет смысл (естественно, если то, как эта история описана в Библии, есть ее точное описание)[14].
Дополнительно можно было бы заметить, что такая жестокость несправедлива, потому что Иисус Навин, скорее всего, не совершил бы ее в отношении тех, кто ему дорог, или своих сородичей, а значит, подобные действия не являются с его собственной точки зрения самостоятельным благом; благом их могла бы сделать связь с волей Бога, высшей справедливостью или чем-то подобным. Но поскольку показано, что воля Бога этого не требует, а высшая справедливость в системе этических координат самого Иисуса Навина как раз в соответствии ей и состоит, для подобного экстремизма не остается хорошего морального оправдания. Но Иисус Навин мог бы оспорить наше понимание гуманности аргументами, что убиенные люди заслужили свою участь — тем, например, что населяют землю, дарованную Богом израильтянам, и т. п. В этом случае он мог бы иметь с его точки зрения хорошее моральное оправдание. Как бы то ни было, такого рода дискуссия — только реконструкция в рамках мысленного эксперимента: реальные мотивы и основания исторических деятелей, особенно — отдаленных эпох и регионов, — а также их представления о добре и зле, правильном и неправильном и т. п., нам обычно доступны лишь в очень слабой степени. Мы не можем быть уверены, что, выяснив в ходе диалога, например, что мы оба согласны, что убийство невинного есть зло, мы пришли к согласию по вопросу о том, как оценивать то, что он сделал: ведь он может не считать это убийством невинных. Можно было бы это уточнить, спрашивая о конкретных ситуациях, как бы он их описал, если бы подобный диалог был доступен в реальности; но в рамках мысленного эксперимента это невозможно. Невозможно с уверенностью судить также и о том, насколько убедительным мог бы быть для библейского Иисуса Навина аргумент, отсылающий к ценностям логичности, последовательности и т. п.
Между тем принять, что каждая историческая эпоха герметична в моральном плане, т. е. ее составляющие могут быть оценены только изнутри, поскольку извне она, так сказать, непроницаема для нашего понимания, или что каждое сообщество имеет право на свою собственную систему моральных координат, которую только и можно использовать для корректной оценки действий членов этого сообщества — значит как минимум отказаться от широко распространенной и привычной для нас практики оценивать действия других, исходя из тех или иных стандартов правильности, трактуемых как если не универсальные, то по крайней мере как лучшие из имеющихся. Но есть ситуации, в которых подобные оценки выглядит вполне уместными. Допустим, мы согласились, что не можем адекватно оценить моральное качество действий Иисуса Навина в силу отдаленности его исторической эпохи и недостатка информации об условиях, в которых он действовал. Можно также признать, что в силу его особой роли в Священной истории мы и не вправе его морально оценивать и это — исключительно дело Господа. Но как насчет Гитлера, Сталина, Пиночета или Пол Пота? О них ведь тоже вполне уместно сказать, что они действовали в иных исторических условиях, и поставить вопрос о том, насколько применимы к ним наши сегодняшние моральные стандарты. Можно, конечно, настаивать на том, что они полностью относятся к нашей эпохе. Но, во-первых, не ясно, где конкретно следует проводить границы между эпохами или культурами. Насколько одна историческая ситуация должна отличаться от другой и чем, чтобы они относились к разным эпохам? А во-вторых, в культурном плане указанные деятели явно отличаются от современных жителей России или, скажем, США: у нас есть, конечно, нечто общее в культурном плане даже с Пол Потом (по крайней мере, он имел европейское образование), но, очевидно, имеются и существенные различия. Должны ли мы фокусироваться именно на них и относить таких людей к принципиально иной, несоизмеримой с нашей в концептуальном плане культуре, несмотря на временную и/или географическую близость к нам, или правильнее ориентироваться на то, что является для них и для нас общим? И насколько культуры должны различаться, чтобы считаться морально несоизмеримыми? Все это вопросы очень сложные, на которые мы даже не будем пытаться ответить в рамках короткой статьи.
Как бы то ни было, отказ морально осуждать указанных деятелей за жестокость, бесчеловечность и т. п. или хотя бы морально оценивать их действия на том основании, что они, возможно, не считали совершенное ими жестокостью, бесчеловечностью и т. п. или имели, с их точки зрения, достаточные основания совершить то, что они совершили, несмотря на жестокость, бесчеловечность и т. п. действий, кажется совершенно неуместным решением. Ведь в этом случае непонятно, почему у нас есть право наказывать подобных людей, если они не являются гражданами нашей страны или не признают ее законов. А если считать, что у нас нет такого права, то как насчет наших современников и членов нашего общества (по крайней мере в том смысле, что они пользуются его благами), оправдывающих свои преступления неприятием общепринятого понимания добра и зла или какими-то экзотическими представлениями о мире? Что же, мы и их не имеем права морально осуждать? Если конвенциональная общественная мораль не имеет объективного этического преимущества над какой угодно иной, то выходит, что так. Но как тогда можно проводить границу между нарушением моральной нормы в силу каких-то заблуждений и действиями, подчиненными принципам, представляющим объективно альтернативную моральную норму? Короче говоря, очевидно, что подобный релятивизм слишком легко можно довести до абсурда.
Семантические основания возможного решения
Что мы обычно имеем в виду, говоря о каком-то деятеле прошлого, что он злодей или совершил нечто ужасное? Разумеется, на этот вопрос также не просто ответить, так как у нас нет единственной окончательно верной теории значений высказываний. Но по крайней мере можно зафиксировать лингвистический факт, что во многих естественных языках одни и те же выражения могут использоваться или как жесткие десигнаторы, значения которых не должны зависеть от того, для описания или указания на что они применяются в конкретном случае, или как индексикалы — выражения, предполагающие зависимость их значений от типа ситуации, в которой они использованы[15]. Мы полагаем, что этот принцип работает не только для имен собственных, но и для некоторых предикатов. «Цезарь» в качестве имени собственного исторически закреплено за конкретным давно умершим индивидом, и определенные его появления в высказываниях связывают его именно с этим индивидом, независимо от того, что конкретный пользователь языка в данном конкретном случае пытается с его помощью сказать, а также — от того, знают ли участники разговора что-то о том самом Цезаре или нет. Но правила русского языка не запрещают называть одним и тем же (в грамматическом смысле) именем разных индивидов и разные вещи. Соответственно, в конкретной ситуации референция имени х может определяться как его связью со строго определённым объектом, так и чем-то другим — например, коммуникативной интенцией говорящего или какой-то локальной конвенцией, в рамках которой х замещает какой-то другой объект. Это различие не тождественно семантическому различию между типами выражений, где один тип определяется независимостью значения (или основного значения) от контекста, а другой — напротив, зависимостью такого рода. В искусственном языке можно задать класс собственных имен так, что к нему будут принадлежать только жесткие десигнаторы. В естественных языках, в свою очередь, есть выражения, для которых естественно приобретать определенное значение строго в зависимости от контекста (местоимения). Но различие, о котором здесь идет речь, не связано напрямую с типологией знаков конкретного языка. Слово «цезарь» в русском языке принадлежит к классу имен, но в этом качестве его значение может быть как жестко заданным связями с определенным объектом в рамках определенной истории интеракций, так и варьируемым согласно тому или иному принципу. Одно и то же утверждение тогда — например, что Цезарь перешел Рубикон в таком-то году до нашей эры, — можно будет читать или как говорящее о строго определенном индивиде из прошлого, что он сделал, то, что о нем сказано, или как говорящее о ком угодно, кто фактически сделал то, что описано в предложении, что он это сделал (так называемые de re и de dicto прочтения). Тогда в одном случае утверждение будет ложным, если соответствующий индивид не делал того, что оно ему приписывает, а в другом — если это сделал не человек по имени «Цезарь». Примерно так же слова «хороший», «плохой», «злой», «жестокий», «неправильный» и т. п. имеют самым естественным образом разные значения в разных контекстах. Когда говорят о каком-то ноже или ином предмете быта, что он хороший, обычно имеют в виду какой-то вид полезности: острый, надежный, красивый, удобный и т. п. Но когда говорят о человеке, что он хороший, чаще всего не имеют в виду, что он чем-то полезен, а имеют в виду что он добродетелен, морален, заслуживает похвалы, не заслуживает упреков и т. п. Такое понимание характерно как раз для этического контекста использования данного выражения. Но уже в рамках этого использования «хорошо» может пониматься как значащее одно и то же, независимо от того, для описания чего и относительно каких обстоятельств оно применено, или как значащее разные вещи в зависимости от этих факторов. Соответственно, в одних случаях «х — хороший человек» будет истинным, если х обладает строго определенным набором этических качеств, а в других — если х обладает неким набором этических качеств, соответствующих ситуации. В этом отношении «хороший» отличается от таких прилагательных, как «высокий» или «средний», для которых пока нет выделенного контекста, предполагающего их жесткое прочтение.Является ли использование этических понятий в исторических нарративах жестким или индексальным? На наш взгляд, доступны оба прочтения: нет существенных оснований исключать одно или другое. Но это позволяет только оценивать двумя разными способами этические суждения историков и других лиц в рамках исторических нарративов; нам же надо понимать, как это следует делать или как и в каких случаях. Конкретный историк или иной субъект исторического суждения может предполагать одно прочтение или другое; часто это предпочтение не выводимо из наблюдаемых характеристик нарратива и самого субъекта (если последние даны). В таких случаях более корректным прочтением подобных суждений могло бы быть дизъюнктивное, предполагающее, что имеется в виду одно из двух, но не какое-то определенное. Но во-первых, это может расходиться с коммуникативной интенцией автора нарратива, а во-вторых, непонятно, что это должно значить в нормативном плане: должны ли мы считать значения всех таких суждений неопределенными или отказаться их приписывать?
Возможно, поскольку речь идет об оценочных суждениях (явных или неявных) в уже существующих исторических нарративах, мы не можем определить значение использованных в них оценочных предикатов, не зная интенций авторов. Но это не значит, что мы не можем выбирать ту или иную интерпретацию: это будет вполне уместно, если мы отличаем ее от исходного нарратива. Так, если мы читаем в тексте историка, что х незаконно узурпировал трон, мы вправе, нам кажется, читать это как утверждение, что х совершил действие (описываемое в терминах, соответствующих исторической ситуации), которое в системе моральных координат Х, руководившей историком (описываемой в терминах, соответствующих его ситуации), корректно трактовать как незаконная узурпация. При таком прочтении исходное утверждение будет истинным, если действие х (при условии, что оно было совершено) действительно корректно трактовать указанным образом в системе координат Х. Эта система координат, в свою очередь, может совпадать или не совпадать с той, которой руководствуется сам оценивающий (субъект интерпретации). Если это утверждается (интерпретатором) как его прочтение нарратива, а не как часть этого нарратива, то оно выглядит вполне корректным отображением собственного суждения историка на комплексную ситуацию оценки исторического события интерпретатором, в которой соответствующий нарратив является только одним из оснований. Другое дело — насколько такая интерпретация уместна или обоснована? Если есть какие-то релевантные данные, то они могут свидетельствовать больше в пользу предпочтения как приведенной выше интерпретации, так и одной из альтернативных, а именно: той, согласно которой х есть (описывается историком как) незаконная узурпация безотносительно к историческому контексту, или той, согласно которой х является незаконной узурпацией с точки зрения морали описываемого места и времени. То есть в этом случае у нас могут быть определенные основания для предпочтения жесткого или одного из двух индексальных прочтений суждения (того, которое соотносит его с реконструируемой исторической ситуацией, или того, которое соотносит его с ситуацией историка). Если таких данных и, соответственно, оснований нет, то, как нам кажется, выбор второго индексального прочтения является наиболее честным: судящий как бы признает, что все, что он может сказать на основании исходного суждения, это то, что оно позволяет трактовать х как незаконную узурпацию с точки зрения историка.
Если же речь идет о нарративе, находящемся на стадии создания, то ответственный историк, на наш взгляд, должен четко оговорить, в каком из трех указанных значений он использует моральные категории или как он их будет варьировать в зависимости от контекста. Тогда, с одной стороны, по крайней мере в этой части, точка зрения историка будет ясной, а с другой — историку необязательно будет быть максимально нейтральным и непредвзятым наблюдателем. Ведь это чаще всего представляет собой проблему для познания, потому что личная позиция смешивается с фактами, а в данном случае этого смешения можно избежать (или по крайней мере существенно снизить его риск).
Выводы
Так был ли Иисус Навин злодеем? Поступил ли он аморально, вырезав целый город? Естественно, в первом приближении легко дать ответ: и да, и нет. Он поступил аморально постольку, поскольку оценка его поступка в современной системе моральных координат законна и корректна; и не верно, что он поступил аморально постольку, поскольку нет достаточных оснований утверждать, что его поступок аморален с точки зрения норм, которыми руководствовался он сам и его соплеменники, а также с точки зрения норм, которыми в то время руководствовалось большинство народов, племен и т. п. Но можно ли оценить его так, чтобы не возникало очевидного противоречия? Нам кажется, что да, потому что не всегда из утверждения, что действие А аморально, должно следовать, что совершивший его субъект х поступил, совершив его, аморально или заслуживает за это осуждения. Так, мы можем сказать, что поступок Иисуса Навина аморален, потому что он аморален в нашей системе координат и, возможно, с точки зрения вечности, если мы исходим из того, что достигли большего прогресса в различении между добром и злом, чем наши предки. Но при этом мы можем настаивать на том, что Иисус Навин не может быть морально осужден за совершение данного действия в силу его нормальности для той эпохи или особой роли, которую этот человек играет в Священной истории, его особой связи с Богом или чего-то подобного. Таким же образом не обязательно оценивать убийство, совершенное в силу крайней необходимости, например невозможности иначе защитить другого или выполнить иной моральный долг, как нечто морально приемлемое или правильное, на том основании что оно было совершено в силу крайней необходимости или имеет другое сильное моральное оправдание. Соглашаясь на такую оценку, мы, по сути, подрываем абсолютность моральной нормы, запрещающей убийство, а нам кажется, что это не лучшее решение. Презумпция существования универсальной системы моральных координат предполагает, что моральные значения действий не должны зависеть от изменчивых обстоятельств. Тем не менее даже если субъект совершил поступок х, являющийся аморальным в силу собственных качеств этого действия, по причине крайней необходимости, которая может служить моральным оправданием этого его поступка, о нем, как нам кажется, вполне корректно будет сказать, что конкретно он не поступил аморально, совершив аморальное действие, как раз в силу наличия сильного морального оправдания (если оно достаточно сильное). Иисус Навин явно совершил действие, являющееся аморальным, согласно стандартам сегодняшнего дня и, вероятно, даже по стандартам его времени (и, возможно, объективно); но при этом, если признается особый статус Священного Писания, можно сказать, что оно дает некоторые основания не считать, что тем самым Иисус Навин поступил аморально или стал в силу этого действия злодеем. За последнее вообще редко когда отвечает единичное действие (зависит от его масштабов, конечно), чаще место в истории в целом, т. е. сложная система, состоящая из действий, ролей, их интерпретаций и оценок.Также данное решение, как нам кажется, позволяет устранить еще одно разногласие: о том, как трактовать исторические нарративы, в которых факты соединены с моральными оценками или частично представляют собой суждения, использующие моральные категории — как нормальные описания и объяснения или как мифы, создаваемые с какими-то иными целями. Если история прямо говорит о некоем х, что он преступник, убийца или злодей и т. п., то это всегда можно оспорить как создание мифа об х, основанного на моральных презумпциях историка или иного субъекта нарратива. Но если история включает суждения, в которых фактическая и этическая составляющая строго (насколько это возможно) разведены и последняя показывает, как факты выглядят с определенных (обозначенных) моральных позиций, то нет серьезных оснований не считать это нормальным описанием и объяснением, отвечающим на вопросы «Что произошло?» и «Как это следует понимать с позиции х?», где х замещает историка или современников того, о чем история повествует, или же судящего (если он отличен от историка). Библия, как и всякий древний текст, дает довольно большую свободу в плане интерпретации. Мы можем предполагать, что моральная составляющая истории покорения Иерихона отражает как точку зрения конкретного автора, так и моральный климат описываемой исторической эпохи, не говоря уже о точке зрения Бога. В этом отношении у нас, конечно, никогда не будет четкого ответа на вопрос о моральном значении совершенного Иисусом Навином. Но по крайней мере мы можем с уверенностью сказать, что он совершил аморальное действие, потому что это то, какое подобные действия имеют значение сейчас и для нас; но при этом мы не обязаны считать, что он поступил аморально и необязательно является злодеем, потому что совершение подобного действия в ту историческую эпоху не обязательно воспринималось как злодейство его современниками (не считая жертв, разумеется), даже если не брать в расчет священный статус данной истории.
Очевидно, не все сочтут данное решение удовлетворительным. Но мы надеемся, что по крайней мере оно даст некоторую пищу для ума тем, кому интересны поставленные в статье вопросы.
Читать статью полностью на Богослов.ru
Новости по разделу
Поделиться:
Комментариев пока нет
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий


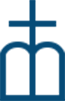






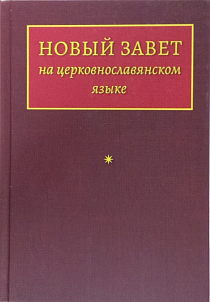










 Mint Studio 2017
Mint Studio 2017